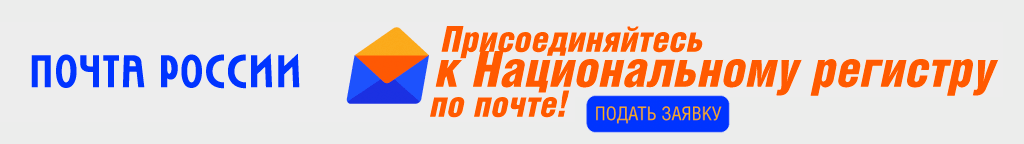Сегодня на «Первом канале» состоится премьера фильма Русфонда про Олега Тинькова и донорство костного мозга
<
Олег Тиньков – новая кровь
>
Новосибирский НИИТО – в Национальном регистре доноров костного мозга
20.04.2021

Олег Тиньков – новая кровь
Как спасти от смерти 5 тыс. человек в год

ОЛЕГ ТИНЬКОВ: Я никогда не думал, что можно год лечиться. А выяснилось, что люди и три года лечатся, и четыре. Это открытие я сделал в 51 год. Четыре месяца провел в клинике, и это ужас. Я в армии отслужил, велоспортом занимался на профессиональном уровне, много претерпел физических страданий, но они ни в какое сравнение не идут с этим годом. Я плакал больше, чем за всю свою жизнь.
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН: Прям плакал?
О. Т.: Ты шутишь? Я первые два месяца только и делал, что плакал. Я бесился, ко мне психологи приходили успокаивать меня.
В. П.: Ты не ожидал от себя таких реакций?
О. Т.: Не-е-ет! Всегда сильный, всегда позитивный. Мачо же был. Но мачизм как-то поубавился, пришлось поплакать.
В. П.: Сколько людей рядом с тобой? Жена? Дочь? Помощники?
О. Т.: Нет, никаких особенных помощников. У нас и в Москве никого не было, и в Петербурге. Вокруг меня только семья. Когда я заболел, они прилетели ко мне, побросали все школы. Младший сын Рома – он медициной интересуется, химией, – он даже заволонтерил и две недели работал в гематологическом центре Хелиос в Берлине, где меня спасали. Он тоже видел умирающих людей, и я думаю, это для него важный опыт. А старший сын из Гонконга прилетел. И дочь Даша. И Рина, жена моя. Мы 32 года живем вместе, я в целом знал, что она ангел, но тут она повела себя очень четко. Это она заставила меня лечиться.
В. П.: Ты хотел отказаться от лечения?
О. Т.: Разные мысли были. Первые два дня ты говоришь себе: не может быть. Профессор Гласс в клинике Хелиос в Берлине сказал: «У тебя лейкемия, 80% бластов. Тебе нужно начинать химию сейчас, завтра. Иначе через две недели ты умрешь». Он прямо при жене и дочке так сказал. У них тут нет темы «поговорить потихоньку с родственниками». У них есть тема «сказать все в лоб». И я ответил: «Ну тогда я и лечиться не буду. Я такую жизнь прожил. Денег заработал, сколько дай бог каждому. Покорил все бизнес-вершины. Весь мир посмотрел...» Но тут жена взяла меня за шкирку и сказала: «Быстро лечиться! Ты еще не видел внуков, ты еще не поженил детей, ты еще пока не умираешь и будешь лечиться». Не знаю, как далеко бы я зашел в своем отказе от лечения, но в момент, когда я сказал, что не буду делать химию, я был уверен, что не буду ее делать.
Сколько стоит лечиться

О. Т.: Я этого не замечал, я про это даже не думал. Ну, слышал: Горбачева... клиника ее имени... что-то Путин приезжал... лысый мальчик... Такие вспышки. Путин дал деньги... Построили центр... Пересадка костного мозга... Для меня это было как премьера балета в Ла Скала: слышал, что такое есть, но был далек от этого.
В. П.: Ты можешь рассказать, сколько тебе стоило лечение?
О. Т.: Берлинский счет у меня был €120 тыс. Я провел в клинике весь ноябрь, практически весь декабрь. Потом меня положили снова в январе, после Нового года, и вышел я в конце февраля. Три месяца. С тремя химиотерапиями, со всеми побочками – у меня было два страшных сепсиса. Как они меня вытаскивали! Вот здесь, я думаю, в России, я бы погиб. Когда у меня температура поднялась до 40,1, в пять утра мне взяли кровь, установили бактерию, в шесть утра уже лечили меня правильным антибиотиком и на адреналин меня посадили. У меня давление было 80 на 40 – короче, его не было. Немцы – молодцы, немецкая машина, я просто снимаю шляпу. Это дорого, но если ты можешь себе позволить, это круто.
Вторая часть Марлезонского балета – Лондон. Я поехал к дочке в гости. И профессор Аветисов из Москвы сказал мне, что в Лондоне есть такой Грибен великий, президент Европейской ассоциации гематологов, – я пошел с ним советоваться. Был очень сложный разговор, Грибен предложил трансплантацию. Он сказал : «В случае рецидива, если ты придешь ко мне на пересадку, это будет другая игра. Тебе будет за 60, и тогда я не дам тебе больше 50%, что ты выживешь. А если ты сейчас решишься на пересадку, пока здоровый и молодой, у тебя есть шанс это кардинально порешать, а не жить под дамокловым мечом. Но от пересадки умирают 25%. От реакции „трансплантат против хозяина“, от вирусов – у тебя выбор вот такой. Твой выбор. Я никогда тебя не толкну на выбор, где 25% людей погибают». Я встречался с ним в марте, а вскоре – и у меня ковид, и у него ковид, и у моей жены, и у его жены. Три недели я вообще не мог встать. Честно говоря, думал: конец. Писал прощальные письма родственникам, мне было очень плохо. Поэтому пересадка оттянулась по времени. Я был одним из первых пациентов в мире, кто после ковида пересадился. Здесь пересадка стоит порядка £100 тыс. Это в два раза дороже, чем в Берлине. А в Америке пересадка с госпитализацией на месяц – что-то миллион долларов. Но в Германии это все бесплатно для граждан Германии. Я лежал, у меня сосед был садовник. Профессор Гласс сказал, что он получает всю ту же терапию, что и я. Только я платил €120 тыс., а за него платило государство. В Лондоне в государственных клиниках тоже бесплатно. У моей Даши подружка заболела, получила все то же, что и я, – ничего не заплатила.
Предпринимательское мышление
В. П.: В России за поиск донора для трансплантации платит либо сам пациент, либо за него платит какая-то благотворительная организация. Правильно ли я понимаю, что ты хочешь это изменить?О. Т.: У меня все-таки предпринимательское мышление. Насколько я понимаю, в России не хватает десятка тысяч трансплантаций в год. Они должны были бы делаться, но не делаются, умирает около 5 тыс. человек, которые не должны были бы умереть. Я подумал: вот ты умрешь – и все, и после тебя останется $3 млрд. И твоя прекрасная семья. А что еще после тебя останется? И я могу сказать, где мог бы быть полезен со своими талантами. Сфера номер один – изменение законодательства. Атавизмы, анахронизмы, нестыковки. Я думаю, законы охотно поправят, потому что здравый смысл – люди просто погибают на ровном месте. Вторая сфера приложения сил – обучение врачей. И третье, самое главное, – развитие донорства. Сейчас 130 тыс. доноров в России, а я хотел бы, чтобы их был миллион. Или 5 млн. За два-три года при помощи моих денег и моих предпринимательских инициатив это можно сдвинуть кардинально. Мне уже неинтересно зарабатывать деньги, это уже такая игра в список Forbes. Сейчас три миллиарда долларов, станет пять или станет два – неинтересно. А вот сохранить тысячу, две тысячи, пять тысяч жизней – это очень круто и это меня очень мотивирует.
В. П.: Ты делаешь благотворительный фонд?
О. Т.: Я делаю фонд в виде эндаумента, то есть деньги будут инвестированы через управляющие компании и на проценты мы будем развивать фонд. Я хочу вложить своих личных денег, семейных наших денег, 20 млрд руб. Я думаю, что с моими талантами фандрайзинга и с правильными людьми мы можем собрать и 100 млрд руб. в эндаумент. Предположим, эндаумент 5% в год будет зарабатывать, вот и получается: в год от одного до пяти миллиардов – бюджет фонда. Деньги пойдут на объединение разрозненных регистров доноров костного мозга, но главное – на пропаганду, на рекламу донорства. Потому что никто про донорство не понимает. Люди боятся слов «костный мозг». Соответственно, реклама, телевидение – фонд будет это все оплачивать, прокачивать население, как важно спасти жизнь человека. Тебе всего лишь надо пойти сдать 10 мл крови или взять тампон, собрать слюну во рту и послать в пакете в лабораторию. Это называется «типирование». Люди, которые протипированы, – потенциальные доноры. И только одного на 10 тыс. вызывают сдать стволовые клетки. Задача – расширить число потенциальных доноров. Мы не ставим себе задачу, чтобы это было под нашей эгидой. Минздрав? Пускай будет Минздрав. Русфонд? Пускай будет Русфонд. Важно это объединить. Более того, мы должны объединиться с мировыми базами, с немецкой, с английской, с американской, – чтобы мы были не просто реципиентами, а тоже донорами, чтобы россиянин мог спасти своими клетками какого-нибудь венгра. А венгр или, в моем случае, немка, – спасла меня. Я сегодня был в London Clinic, захожу, а там сидят молодые ребята, доноры, ржут, смотрят фильм на айпаде и сдают кровь – стволовые клетки. Я говорю: «Вы сейчас сдаете стволовые клетки?» – «Да». – «А кому – знаете?» – «Нет. Нас позвали, и я счастлив, что кому-то спасаю жизнь». Ну я на колени вставать не стал, просто поклонился и сказал: «Спасибо вам большое. Потому что один из вас спас меня».
Хорошие люди

О. Т.: Я отношусь к этому как к атавизму. Почему чиновники Берлина не побоялись? Я даже не знаю, из какого города моя донор. God bless her. Но немецкие чиновники не запрещали ее стволовые клетки вывезти в Лондон для русского парня. Сколько российских детей – нам должно быть стыдно! – спасают немцы каждый год. Пятьсот? Если немцы будут смотреть на дело так и запрещать вывозить из Германии немецкие биоматериалы, у нас еще 500 детей погибнет в клинике Рогачева. Я уверен, что все это легко донести, объяснить. Если нужно, президенту будем объяснять, премьер-министру – это же здравый смысл. Молодежь открытого мира не боится, приходит с открытым сознанием. Люди становятся донорами бесплатно. Они сидят четыре часа, сдают свои стволовые клетки – и ничего за это. Только в день сдачи не ходят на работу. Не получают за это ни копейки. Делают это чисто от сердца. И я молюсь этой немке, которая спасла мне жизнь. Понимаешь, просто взяла, пошла и три часа сдавала клетки, чтобы какой-то парень из Сибири их получил. И выжил!
В. П.: Ты веришь в регистры, которые строят некоммерческие организации, или ты за то, чтобы их строило государство?
О. Т.: Должна быть какая-то регуляторика, потому что это медицина и биоматериалы. В Германии, где крупнейшие регистры частные, она есть. Я не говорю, что можно допустить какую-то махновщину, когда кто хочет собирает доноров и куда хочет отправляет их стволовые клетки. Но я предприниматель, я вообще верю, что все частное эффективнее всего государственного. Конечно, частные регистры будут функционировать лучше, быстрее и качественнее. Они будут следить за новинками, менять оборудование, они более мотивированны. Я считаю, что Минздрав должен быть регулятором, судьей и заставить регистры объединиться. Наверное, там будут какие-то амбиции: «Это наше, это мы строили». Но, по-моему, это не наше, это принадлежит народу, обществу.
В. П.: Ты был удивлен, что клиники и благотворительные фонды, которые занимаются лечением рака крови, относятся друг к другу как конкуренты и не могут преодолеть разногласия?
О. Т.: Я был не удивлен – я был в шоке. То, что творится в российской гематологии, – это просто шок для меня. В Германии меня сразу протипировали и сразу нашлись четыре донора – турок, полячка и две немки. Профессор сказал, что турок мне больше всего подходит. Но турецкие самолеты уже не летали, потому что был ковид, и мы взяли немецкого донора. Но представляете, какая коллаборация! Нажатием двух кнопок данные о моих донорах передали из Берлина в Лондон, и тут же донорские клетки в замороженном бидоне привезли. Все работает как часы – и о какой конкуренции можно говорить? Нужно строить лабораторию. В Турции есть лаборатория, которая занимается типированием. Турция на 30 лет опережает нас – это стыдно. Лаборатория должна быть построена условно в городе Тамбове, и типирование должно быть дешевым.
В. П.: Русфонд построил такую лабораторию в Казани.
О. Т.: Если такая лаборатория есть в Казани – прекрасно. Скорее всего, она недозагружена. Надо делать телевизионную рекламу, как мы любим по пельменям, пиву или банку. Люди у нас добрые, хорошие. Им просто ничего не объясняют. А когда ты им объяснишь, что можно слюну сдать и спасти жизнь человека, они это будут делать. Русские люди, российские люди. Кстати, про «российский» и «русский»: мы думаем что-то делать на Кавказе, что-то делать на северах, потому что, если лейкемия будет у мелких народностей, дагестанский какой-нибудь мелкий народ, алеуты, якуты, – это смерть. Им нельзя сделать пересадку, потому что в регистре просто генотипа этого нету. Мы сейчас сидим на регистрах Германии, благодаря векам и войнам у нас более или менее ДНК совпадает. Мы оттуда подкачиваемся, но какой был бы мэтчинг, если бы у нас в России было 5 млн потенциальных доноров. Иметь свою базу доноров – значит иметь намного больше шансов, что ты донора найдешь.
В. П.: Ты уверен в успехе?
О. Т.: Может быть, и не получится. Может быть, мы встретимся с тобой через три года, если я выживу, и я скажу тебе, что вот я построил четыре бизнеса, а на пятом, на благотворительности, сломался, не смог. Но, мне кажется, если подойти к делу профессионально, с хорошими людьми и хорошей энергией... Я создал четыре совершенно разных бизнеса в разных сферах. С нуля. Сто тысяч рабочих мест. Целый город. Его не было. Я его придумал. Но я никогда не понимал, что сделал Билл Гейтс: он был президентом Microsoft, зачем он все бросил и ушел в благотворительность? Ох, как я хорошо сейчас его понимаю!
Публикация подготовлена с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Фото Ольги Павловой