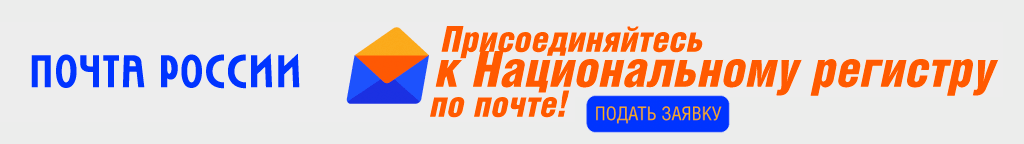16.02.2018
Портрет врача
Пересадка жизни
Полина Степенски как послание человечеству
Рубрику ведет Сергей Мостовщиков
Все, что дано, даже если это самая малость, не может быть отнято, потеряно или обменяно на что-нибудь другое. Любой дар, пускай и пустячный, – например, умение громко свистеть или ровно расчесывать волосы – сам проявит себя и всегда будет определять существо жизни того, кто им владеет. Что уж говорить о редком таланте. Может быть, его обладатель и не знает его в себе в полной мере, но обстоятельства сами превращают каждый день в такое приключение, что выкрутиться из него может только яркий и одаренный человек.
Допустим, Полина Степенски: родилась в Виннице и росла там девочкой-отличницей, которой родители говорили, что никому она тут со своим еврейским происхождением не нужна, если не будет знать все даже не на пятерку, а на десятку. Когда Полина эмигрировала в Израиль, выяснилось, что и там она никому не нужна, даже со своей золотой медалью и советским медицинским образованием.
Бывшая студентка устроилась на работу почтальоном, убирала квартиры, мыла подъезды. Кажется, на вселенском празднике надежд девочке из Винницы было уготовано безнадежно скромное выступление. Но сегодня Полина Степенски – одна из звезд медицины мировой величины, профессор, руководитель департамента по пересадке костного мозга знаменитой иерусалимской клиники Хадасса. К ней едут спасаться дети, которым жизнь не оставила совсем никакого шанса. Доктор Степенски вытаскивает их из небытия, наделяя силой, ради которой, собственно, все мы и становимся чем-то вместо ничего. Что это за сила? Конечно, об этом знает только сама Полина. Послушаем, что говорит она о маце, успехе, клятве, смерти, генетике, пересадке костного мозга, Боре, рае и кока-коле.
Маца, варенье и карьера
Родилась я на Украине, в Виннице. Одна еврейская дочка в семье, избалованная, с фамилией Беренштейн – можете себе представить, что это значило в восьмидесятые годы. Мой папа всегда говорил мне: тебе, чтобы получить пятерку, надо знать на десятку. У меня была тогда лучшая подруга, она сейчас живет в Питере, мы с ней дружим пятьдесят лет, так она очень любила мацу. На Песах родители мои давали ей мацу, она мазала ее вареньем и выходила на улицу. И я всегда говорила: папа, почему Света может выходить с мацой на улицу, а я нет? А папа мне всегда отвечал: когда твоя фамилия будет Дащенко, а не Беренштейн, будешь делать что хочешь.
Папа у меня был инженер, мама была инженер – ну вы знаете эти интеллигентные еврейские семьи. Миллион книг, у дочери золотая медаль, математический класс и так далее. Родители меня никуда не отпускали, говорили: ты у нас единственная дочь, будешь сидеть с нами. Так что я поступила в медицинский институт в Виннице, но параллельно сама учила иврит и даже преподавала его – это было очень смешно. Я его учила в ванной – сегодня учила, а завтра преподавала.
В 1989 году, когда открыли границы, появилась толпа выезжающих евреев. Все боялись, что долго это не продлится, границы закроют через пять минут, и мы с моим мужем – а я довольно рано вышла замуж – тоже решили уезжать. Я подумала: с фамилией Беренштейн лучше уезжать в Израиль, туда, где все евреи, там все будет хорошо. Я была такая глупая, наивная, даже не представляла себе, что меня там никто не ждет, несмотря на то что я училась в Советском Союзе на одни пятерки.
Мы приехали в девяностом году, пошли в министерство абсорбции, и мне сказали: про медицину сразу забудь, тут конкурс на медицинский факультет человек 150 на место, отбирают сливки общества, никогда ты туда не попадешь. Я полгода прорыдала, устроившись на работу почтальоном, еще убирала квартиры, мыла подъезды. Есть же надо было хоть что-нибудь. Муж мой, поскольку он был молодой инженер-электрик, пошел на курсы офицеров флота. Мы не виделись неделями.
Потом я решила, что надо сдать психометрию: для того чтобы хоть куда-то поступить, тут нужно сдать психометрический экзамен. Я подготовилась, но даже не записывалась на медицину: была уверена, что ничего не получится. Записалась только в медсестринскую школу. Утром разнесла почту и пошла на экзамен. Там три части – математика, логика и английский. И вдруг оказалось, что я все это знаю, мне было совсем не сложно. Я подумала: наверное, я просто ничего не поняла и все сделала неправильно.
Буквально через месяц мне начали звонить из всех медсестринских школ Израиля, несмотря на то что оценку я еще не получила. Я подумала: а чего они все звонят? Наверное, сдала я хорошо. Но когда получила оценку, поняла, что она в пяти процентах лучших оценок всего Израиля. Я пошла тогда в медицинские школы, но мне сказали: все хорошо, девочка, но ты же к нам не записалась. И я пошла учиться в медсестринскую школу – все-таки это хорошее ремесло, как говорили мои родители.
На втором курсе медсестринской школы умер мой папа. Мне было 25 лет, ему – 52. Это было внезапно. В субботу мы были на море, в воскресенье его уже не стало: инфаркт. На его похоронах я сказала, что буду профессором, как он хотел, я этого обязательно добьюсь. А я если сказала, то так оно и будет. На третьем курсе родила старшего сына, закончила медсестринскую школу и сдала психометрию еще раз. За нее я получила еще более высокую оценку и поняла, что теперь поступаю везде. И я поступила в Еврейский университет – это самое престижное, что есть в Израиле.
Здесь была такая классная тетка Ривка Гольдберг, жена госконтролера Израиля, она могла позволить себе все что угодно. Вот она мне зачла четыре курса образования в СССР и сказала: мы с русскими никогда не ошибались, у нас никогда не было проколов, если мы тебя взяли, то все будет хорошо. И я начала учиться, сняла своего мужа с моря, куда он ходил по полгода, мы переехали в Иерусалим, и я пошла работать в педиатрическое отделение Университетской клиники Хадасса медсестрой в детской реанимации.
На пятом курсе я стала по оценкам первой в классе, где было сто с лишним человек, а на шестом курсе получила приз ректора Еврейского университета. И когда я шла его получать на сцену, весь зал шептал: смотрите, русская, Степенски, Степенски… Это фамилия моего мужа. Мне было очень приятно, а муж очень гордился.
Строительство, разрушение и генетика
Я всегда сомневалась, кем заниматься – взрослыми или детьми? Я знала, что хочу быть гематологом: людям с заболеваниями крови так плохо, что все, что я смогу сделать, сделает им только лучше – хуже уже невозможно. Но на стажировке поняла: с детьми получаешь больше удовольствия – взрослых всегда экстраполируешь на себя, это непросто. Поэтому я решила пойти в педиатрию и заняться детской гематоонкологией, пересадками костного мозга. Во-первых, не так много таких молодых специальностей – первая пересадка была сделана в 1968 году. Во-вторых, с помощью пересадки ты можешь полностью поменять жизнь человека. Мне это очень нравилось.
В 2008 году я поехала в Миннесоту – место, где была сделана первая пересадка костного мозга. Кстати, ребенку с иммунодефицитом – и он выжил. Я была там недолго, четыре месяца, но основу пересадок поняла. Вернулась и начала ими заниматься. И оказалось, что у нас в Израиле ситуация в некотором роде уникальная. В плане лейкозов мы, конечно, не можем сделать ничего больше или лучше, чем в Америке, тут все одно и то же. Но у нас очень много генетических заболеваний: в Палестинской автономии высок уровень родственных браков. У меня появилось много пациентов с генетическими заболеваниями, которых я могла спасти. И ко мне палестинцы начали приезжать толпами, целыми деревнями.
Я начала разбираться – что можно сделать, что нельзя. Подала документы в английскую академию наук и поехала в Лондон в детскую больницу, где много генетических болезней: у них эмигранты плюс к ним ездят лечиться из стран Персидского залива. Я очень многому там научилась. Вернулась и стала вести программу пересадок костного мозга при генетических болезнях. Мне помогло то, что у нас потрясающее отделение генетики, которым руководит профессор Орли Эльпелег. Мы с ней начали заниматься наукой, нашли пять новых болезней и гены, которые за них отвечают. Пересадили детей с этими болезнями, и они выздоровели.
В это же время я начала заниматься остеопетрозом. Дети с остеопетрозом приходили из Палестинской автономии – много, разные. С помощью Русфонда к нам приезжают лечиться и дети с остеопетрозом из России. Что происходит при этой болезни? Это очень просто. У нас в костях есть два вида клеток – остеобласт и остеокласт. Остеобласт строит кость, остеокласт ест кость, разрушает ее. И этот процесс происходит у нас в костях одновременно и постоянно. Все строится и разрушается.
Почему надо разрушать? Потому что кость должна проходить так называемое ремоделирование. Чтобы у нее была форма, чтобы были отверстия для нервов и полости для кроветворения. Так вот, при остеопетрозе остеокласты не функционируют. Кость строится, а ничего ее не разрушает. Закрываются ниши костного мозга, кроветворение начинает происходить в печенке, в селезенке. Закрываются отверстия в черепе – там, где проходит оптический нерв, слуховой нерв. Дети слепнут, глохнут.
Результаты пересадки костного мозга при остеопетрозе исторически были очень плохими. Вообще считается, что это жуть, ночной кошмар. Все ниши в костях забиты, костному мозгу некуда войти. Но мы разработали новый протокол. Раньше врачи перед пересадкой делали сильное кондиционирование, разрушающее костный мозг, а этого не нужно. Нужно просто подавить иммунную систему, а потом проявить много терпения. Обычно эти дети очень больны, с кучей побочных проблем. Пока у них в организме все заработает нормально, врач может наделать много ошибок – влезть куда не нужно, провести операции, от которых будет только вред. То есть тут главное – не разбираться в том, что делать, а понимать, чего делать не надо. Так что я их тут держу по полгода, не отпускаю, пока все не восстановится, живу с ними 24 часа в сутки. Но зато у нас отличные результаты.
Химеры, антитела и будущее
Сейчас я в Хадассе директор департамента пересадок костного мозга, очень люблю заниматься генетическими заболеваниями, люблю иммунологию, но тут у меня все уже функционирует. Так что следующий этап – это CAR-T, Chimeric antigen receptor T-cell. Это будущее. Что это такое? Вы берете из крови больного лимфоцит и при помощи генной инженерии присоединяете к нему антитело, которое будет действовать против определенного антигена на клетках, допустим, рака. Потом вы возвращаете модифицированный лимфоцит в кровь, он встречается с опухолевыми клетками, их взаимодействие активирует Т-клетки – и они в конце концов убивают опухоль. В Америке это уже разрешили для клинического использования. Такое лечение стоит 450 тысяч долларов, плюс пересадка, которая стоит около миллиона.
Конечно, это практически недоступно, но это только начало. И надо еще понять, начало чего. Ведь любой человек после пересадки костного мозга – это химера по определению. С одной стороны, он – это сам он, он же не поменялся. Тело, кожа, легкие – они остались те же самые. Но кровь и иммунная система – от донора. А тут изменения на клеточном уровне, на уровне его же собственных клеток. Надеюсь, что в ближайшее время я буду именно с этим разбираться, я уже ездила в Нью-Йорк и в этом году поеду еще раз. У меня есть группа в лаборатории, которая занимается изучением технологии CAR-T-терапии. Так что если говорить о будущем – это оно и есть.
Боря, рай и кола-кола
В жизни меня больше всего поражает, что в ней нет границ. Медицина настолько классная специальность, что ты каждый раз находишь для себя что-то еще. Можно, конечно, остановиться. Профессура у меня есть, я руковожу отделением – что мне еще надо, да? Я могу, конечно, читать книги. Но меня всякий раз поражает, что я могу делать что-то другое. Я помню, когда я обнаружила в первый раз экзом и то, что можно вообще весь человеческий геном секвенировать и сразу найти мутацию. Вау! Как это? Потрясающе.
Потом меня всегда поражало, что при помощи пересадки можно полностью вылечить что-то совершенно нелечибельное. Я спасала людей, которым говорили: все, иди домой и умирай. Детей, которым говорили: до свидания, иди прощайся с бабушками. А у меня полно фотографий, где эти дети пошли уже в первый класс, а я пересаживала их, когда им был всего год. И у меня есть фотографии счастливых семей, которые каждый день прощались со своим ребенком. Вот я сейчас получила письмо от Вероники из Питера, у нее сын Боря, я его пересаживала, когда ему было года два. А теперь посмотрите на этого Борю. Вот он в Турции на курорте, мать пишет: «Он думает, что попал в рай – тут везде дают кока-колу». Разве это не открытие – Боря, рай и кока-кола?
Жизнь, смерть и послание
Я не думаю, что решаю вопросы жизни и смерти. Знаете, в еврейской религии, и в мусульманской тоже, есть такое соображение: врач – это посланник. Все, что он дает тебе, ты должен взять. А что будет – то будет, это не от тебя зависит. И не от врача, он всего лишь посланник и должен отдать максимум.
В этом плане пересадки просто идеальны, потому что все так плохо, хуже некуда. Мне часто говорят: он у тебя умрет при пересадке. Да, но без пересадки-то он умрет сто процентов. А с пересадкой может быть девяносто, а может, и нет. У меня сейчас ребенок один палестинский – очень тяжелый, очень. Он весь в инфекциях, запустили его. Мне все говорят: никаких шансов. Я пришла к матери его. Мать – простая женщина. Спрашивает: сколько процентов, что он не умрет? Я говорю: ну пять, может быть, десять. Она отвечает: и что вы думаете, я не возьму эти пять процентов?
Конечно, пересадку можно назвать русской рулеткой: если выиграл, выиграл крупно. Проиграл – проиграл тоже крупно. Это такая бинарная система. Ноль и один. И больше ничего тут нет. Но я не видела еще ни одного человека, который бы от этого отказался. И меня это тоже поражает каждый раз.
Слезы, мысли и жизнь
Знаете, мне тяжело думать о смерти. Я до сих пор плачу. Когда больные умирают, я плачу. У меня тут недавно умерла одна израильская девочка, у нее был лейкоз, мы ее пересадили. И целый год был кошмар: у нее началась реакция «трансплантат против хозяина». Она лежала у нас в отделении, и я все время говорила: все будет хорошо, все пройдет. Но болезнь вернулась. И мы уже ничего не делали. И она умерла. И мы сидели вместе с ее мамой и вместе плакали. Но. У нас принято и другое. Все, кто выздоровел, приезжают ко мне хотя бы раз в год. Не только потому, что надо сделать анализы. Но и потому, что надо поговорить, дать надежду другим людям. Чтобы другие имели терпение и знали, что есть не только смерть, но и жизнь. И жизнь – это хорошо.
Нужно, не нужно и поглядим
Если говорить о том, чего не нужно делать в жизни, то я бы сказала, что в жизни не нужно бояться делать. Если ты что-то решил и тебе это надо, но тебе тяжело, надо просто начать – а там поглядим.
Фото Сергея Мостовщикова